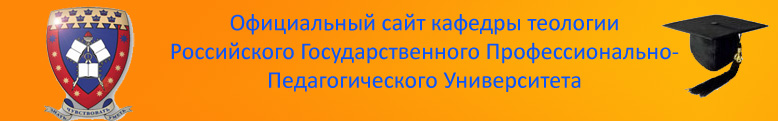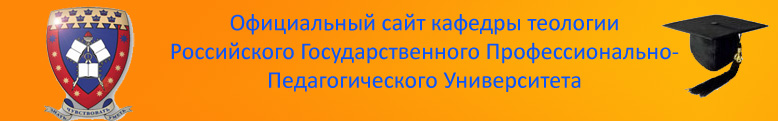Борьба Бориса со своей
совестью – одна из коллизий трагедии. Суть
драматического конфликта в том, что у Бориса есть
чувство вины, которое не может
перерасти в действенное покаяние.
Слово «покаяние» происходит от
«каяти» – «корить, укорять,
огорчать». Но греческое
μετάνοια,
переводом которого является русское
«покаяние», означает нечто другое, а именно
– «перемену ума». Покаяние
– это перемена сознания. Если Борис кается
в первом из названных нами значений
– укоряет себя, то покаяния в значении
втором – перемены сознания, изменения
себя – у него нет: он остается прежним.
Поэтому он мучения совести
испытывает, но не находит в них
освобождения.
Тем не менее, в трагедии присутствуют
несколько узловых моментов, когда для
Годунова открывается возможность
покаяния.
Одним из первых
«звонков» для Бориса
становится известие о появлении
Самозванца, о «воскрешении имени
Димитрия». Характерна реакция царя Бориса: если для
боярской верхушки (как и для польской шляхты)
самозванство Лжедмитрия несомненно, то
Борис – один из немногих, кто сомневается
в этом: ему кажется, что мертвый царевич
воскрес и вызывает его на допрос:
Чтоб мертвые из гроба выходили
Допрашивать[1]
царей, царей законных,
Назначенных, избранных всенародно,
Увенчанных великим патриархом?
В законности своего избрания, в
святости чина венчания Борис пытается найти
внутреннюю нравственную опору
против воскресшего Димитрия. В
первом столкновении с ужасающим призраком
победа как бы достается Борису: Шуйский убеждает царя
в смерти истинного Димитрия. Но в самом
рассказе Шуйского уже сокрыто нравственное
поражение Бориса: в нем
засвидетельствовано нетление
останков царевича:
Вокруг его тринадцать тел лежало,
Растерзанных народом, и по ним
Уж тление приметно проступало,
Но детский лик царевича был ясен,
И свеж и тих, как будто усыпленный…
Черты лица совсем не изменились.
Законность поставления Бориса оказывается
ничтожной перед «нетленным сном»,
святостью убиенного царевича.
Столкновение неправедной власти со
святостью продолжается в сцене «Царские
палаты». Борис, получив известие о
вторжении Самозванца, стремится
нейтрализовать его агитацию мирными
средствами, не прибегая к репрессиям, и просит
совета у патриарха. Патриарх Иов
рассказывает историю исцеления слепца у могилы
царевича в 1598 году и предлагает перенести
его мощи в Кремль, в Архангельский собор.
Весь эпизод выдуман Пушкиным:
чудотворения начались после обретения мощей; до 1606
года о них нет никаких известий, не говорится
о них и в «Житии царевича
Димитрия», написанном патриархом Гермогеном.
Более того, в 1606 году жители Углича не могли
указать посланцам Василия Шуйского место погребения
царевича: его могилу искали всем
городом[2].
К тому же, патриарх Иов, в 1591 году
заявивший, что смерть приключилась
царевичу Димитрию Божиим судом[3],
никак не мог дать подобный совет[4].
Патриарх в данном случае представлен не
как исторический характер, он – символ
нелицемерной правды, скрытой под простодушием;
«в делах мирских немудрый судия» чем-то
напоминает юродивого Николку и блаженного царя
Феодора Иоанновича, и именно патриаршими устами
высказывается страшная для
Годунова истина о святости убиенного
царевича. Рассказ патриарха Иова имеет
определенный символический подтекст и может быть
отчасти назван притчей. Возможно, следующее
утверждение парадоксально, но Годунов
в чем-то подобен тому слепому старику, о чудесном
прозрении которого рассказывает Борису патриарх.
И тот, и другой недугуют; и тот, и другой ищут исцеления
то у колдунов, то в церкви. Но если
старик не отличает дня от ночи, то Годунову
застилают взор «мальчики
кровавые»; если старик болеет телесной
слепотой, то Годунов недугует душевной,
ибо его духовные очи помрачены грехом и
преступлением. Подобный символизм
является традиционным для русской культуры, его
корни скрыты в православном
богослужении, прежде всего в службе Недели о
слепом 6-го воскресенья по Пасхе:
«Душевныма очима ослеплен, к Тебе, Христе,
прихожду, яко же слепый от рождения».
В том, что в рассказе патриарха мы имеем дело
с притчей, адресованной самому Годунову,
убеждают нас слова царевича, обращенные к
слепому:
Там помолись ты над моей могилкой,
Бог милостив – и я тебя прощу.
Применительно к слепому старику эти слова
достаточно странны: если он и виноват, то
перед Богом, Который только и может его простить.
Свой полный смысл они обретают лишь как обращенные к
царю Борису – убийце царевича, которому
обещается прощение в случае покаяния.
Годунов находится на грани гибели, его
власть безблагодатна, а значит и бессильна перед
демоническими стихиями, вызванными Расстригой.
Раскаяние – единственное средство
развеять бесовский фантом вокруг
Самозванца:
Вот мой совет: во Кремль святые
мощи
Перенести, поставить их в соборе
Архангельском; народ увидит ясно
Тогда обман безбожного злодея,
И мощь бесов исчезнет яко прах.
Однако подвиг подобного покаяния выше
сил Бориса Годунова: причисление к лику
святых отрока, заколовшегося, согласно
официальной версии, в припадке падучей
болезни, означало бы признание в его убийстве.
Это все равно что совет Сони
Мармеладовой Раскольникову:
«Встань, поди, поцелуй землю, которую ты
осквернил, и скажи всему миру: ”Я
убил”». После подобного покаяния Борису
невозможно было бы оставаться на престоле, и
единственно возможным выходом для него
оставался бы монастырь. Но, как мы заметили
выше, для Годунова монашество
равнозначно смерти.
Следующая сцена, в которой царь Борис
призывается к покаянию, – «Площадь
перед собором». Имя юродивого – Николка
Железный колпак – является значимым;
по-видимому, это имя было навеяно
Пушкину именем псковского юродивого
Николы Салоса, который удержал Иоанна Грозного от
убийств, поднеся ему кусок сырого мяса. «Я
христианин и не ем мяса в пост», – сказал
ему Грозный. «Ты делаешь хуже – плоть
человеческую ешь», – ответил ему
Салос и тем усовестил царя[5].
Сходная сцена и в пушкинской трагедии: Николка
выпрашивает копеечку, затем
провоцирует мальчишек на кражу и создает
ситуацию, при которой ему естественно обратиться
к царю с обличением: «Николку маленькие дети
обижают… Вели их зарезать, как зарезал ты
маленького царевича». Борис
выдерживает обличение и, как кажется на
первый взгляд, проявляет
великодушие и готовность к покаянию:
«Оставьте его. Молись за меня, бедный
Николка». Однако он слышит вслед
неожиданное: «Нельзя молиться за царя Ирода
– Богородица не велит». Царь Ирод не
только детоубийца, он – гонитель Христа, и Борис
в обличении юродивого приобретает черты
царя-антихриста.
Особого рассмотрения требуют парадоксальные
слова «Богородица не велит». В
церковном Предании Богородица является
заступницей за самых страшных и отчаянных грешников,
которых желает карать Ее Сын. В христианской
традиции существует, пожалуй, единственное
сказание, в котором повествуется, как
однажды Божия Матерь отказалась от предстательства
за грешников, – это «Хождение Богородицы
по мукам». «Увидев это, заплакала
святая и спросила: ”Что это за река и
волны ее?” И ответил ей архистратиг:
”Это река вся смоляная, а волны ее
все огненные; а те, кто в них мучается, это
евреи, которые мучили Господа нашего Иисуса
Христа, Сына Божия; это все народы, которые
крестились во имя Отца и Сына и Святого
Духа и, называясь христианами, веруют в
демонов… и удушают своих детей; за
свои дела и мучаются они так”. И сказала
святая: ”Пусть будет так по заслугам
их”»[6].
Пушкин, вероятно, знал это сказание. И его
юродивый напоминает Борису об этом сказании
словами «Богородица не велит».
Царь Борис, по мнению юродивого Николки,
оказывается виновным во
всех упомянутых в приведенном
фрагменте сказания грехах: он – царь Ирод,
следовательно, гонитель Христа; христианин,
обращающийся к колдунам, то есть доверяющий
демонам; наконец, детоубийца. Для искупления всех
этих грехов есть только одна возможность
– покаяние и отречение от мира, но именно
последнее оказывается невозможным для
Бориса.
Даже в свой смертный час Борис цепляется за
власть и жизнь:
Повремени, владыко патриарх,
Я царь еще…
Борису, занятому передачей власти, некогда принести
покаяние:
О Боже, Боже!
Сейчас явлюсь перед Тобой – и душу
Мне некогда очистить покаяньем.
Борису действительно некогда, он существует
в эсхатологическом режиме сжимающегося
времени: в трагедии практически не показано
его правление, о нем сжато говорится в
монологе царя, показано лишь его крушение. И это
спрессовывание времени связано с
сжатием духовного пространства вокруг
Бориса: в конце остается лишь он и его семья, его
сын. И на краю гибели Борису Годунову сын
оказывается «дороже душевного
спасенья». С точки зрения
новоевропейской, гуманистической, такой
выбор нормален, но с христианской – подобный
взгляд является кощунственным и
гибельным: «Кто любит сына или дочь более, нежели
Меня, не достоин меня… Сберегший душу свою
потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня
сбережет ее» (Мф. 10: 37, 39). Трагедия Бориса
состоит в сознании им того, что он творит,
делая безбожный и антихристианский выбор, но
вместе с тем и уповает на Божественную
милость и помощь:
Но Бог велик! Он умудряет юность,
Он слабости дарует силу…
Однако эти упования безосновательны.
Все мудрые и замечательные советы царя Бориса
сыну оборачиваются против Федора:
Басманов, возвеличенный, несмотря на
«боярский ропот», предает юного царя;
«ослабление державных бразд»
приводит к народному мятежу, ибо лично
невинный Федор Годунов наследует
безблагодатность и нераскаянность власти
своего отца, неизжитые Борисом даже в момент
смерти.
Пятый тип властителя, представленный
в трагедии, – тип «нелегитимного
макиавеллиста» – явлен в
Самозванце. Это один из самых сложных
характеров в трагедии, суть которого,
впрочем, не полностью исчерпывается
определением «нелегитимный», хотя во
многом и соответствует ей. Некоторые
исследователи считают характер пушкинского
Самозванца сходным с характером Генриха
IV[7].
Это поэт[8],
творящий свою судьбу и новую
реальность, совершающий чудо
«воскресения» царевича. Все
это верно, но лишь отчасти. И если в ряде
работ, посвященных пушкинской трагедии,
проводилась параллель Борис Годунов
– Александр I[9],
то, насколько нам известно, никто еще не
исследовал оппозицию Отрепьев –
декабристы, вероятно, в силу определенного
идеологического неудобства ассоциировать
последних с Самозванцем. Между тем
Самозванец предстает как человек
«декабристского типа»[10]
– отважный, умный, ловкий, любящий
риск, авантюрист: «Да слышно, он умен,
приветлив, ловок», «и
вор, а молодец».
Сам Самозванец характеризует себя так:
Я, кажется, рожден небоязливым;
Перед собой вблизи видал я смерть,
Пред смертию душа не содрогалась…
За мной гнались – я духом не смутился
И дерзостью неволей избежал.
Отношения Самозванца с Мариной также
напоминают поведение людей декабристского круга; не
случайно он, забывшись, в досаде
называет ее «любовницей»:
Я не хочу делиться с мертвецом
Любовницей, ему принадлежащей.
Стихотворный размер монолога – шестистопный
ямб – позволяет вставить другое
слово – «возлюбленной»; но
значимо, что Пушкин выбирает именно
слово «любовница».
А слова Самозванца о поэзии: «Стократ
священ союз меча и лиры», – звучат
совсем уж по-декабристски.
Однако главное в образе Самозванца
– нечто иное. Ведь если убиенный царевич
Димитрий принят «в лик ангелов
небесных» и стал «великим
чудотворцем»[11]
и, как мученик Христов, он является
богоносцем и христоносцем[12],
то кем становится человек, принявший
на себя имя и облик святого? С какими силами он
связан? Конечно же, с антихристом. И в ряде
мест трагедии Самозванец характеризуется как
слуга диавола или бесовский фантом.
Вот что о нем говорит Афанасий
Пушкин:
Спасенный ли царевич,
Иль некий дух во образе его,
Иль смелый плут, бесстыдный самозванец.
Согласно Преданию Церкви, души умерших сами по
себе не могут являться живым, чаще всего
их явления связаны с бесовскими
мечтаниями. Соположение слов «дух» и
«бесстыдный самозванец» не оставляют
сомнения в том, какой это дух[13].
Говоря о царе Иоанне Грозном, мы уже
упоминали о сентенции Самозванца: «Тень
Грозного меня усыновила».
Самозванца усыновляет тот царь, о котором не
стоит поминать к ночи, кто возмущает народы.
Остановимся и на стихе «И в
жертву мне Бориса обрекла». Если исходить
из буквального смысла этих слов, то
Самозванца нельзя иначе воспринимать, чем как
языческого кумира либо демона, которому приносят
человеческие жертвы. Вспомним
слова псалма 105: «Служили истуканам их,
которые были для них сетью. Приносили сыновей
своих и дочерей своих в жертву
бесам» (Пс. 105: 36–37). Наконец,
патриарх Иов, выразитель церковной
правды и праведности, называет
Отрепьева «бесовским сыном,
расстригой окаянным». Для него «обман безбожного
злодея» непосредственно связан с
«мощью бесов».
Но парадокс состоит в том, что А.С. Пушкин не
демонизирует характер Отрепьева;
напротив, он наделяет его многими
привлекательными чертами, но факт остается фактом:
если царь – помазанник Божий несет в себе
образ Христа, то Самозванец исполняет страшную роль
лжецаря-антихриста. В том и состоит гениальность
Пушкина, что он рассматривает исторические
характеры в их сложности, в их
взаимодействии с окружающим миром, а также
в их роли, назначении и целеполагании.
В процессе работы над трагедией А.С. Пушкин
изменил мотивацию самозванства
Отрепьева. В первоначальной
редакции, на которой сильнее отразилось влияние Н.М.
Карамзина и летописных известий[14],
Отрепьев решает стать Самозванцем под
влиянием «злого чернеца» – старца
Леонида. Это имя не случайно: инок Крыпецкого
монастыря бродяга Леонид согласился помогать
Самозванцу и назвался именем Григория
Отрепьева. Изначальная трактовка
искушения Отрепьева сугубо романтическая,
сам «злой чернец» оказывается
неожиданно исчезающим демонским призраком, от которого
стынет кровь в жилах:
Где же он? Где старец Леонид?
Я здесь один, и все молчит,
Холодный дух в лицо мне дует,
И ходит холод по главе…
В разговоре со «злым чернецом»
основным мотивом решения Григория
становится разочарование в монашеской
жизни, тоска и скука[15],
«черные грезы», мутящие душу, и желание найти
хоть какой-то выход:
Нет, не вытерплю! Нет мочи! Чрез ограду да
бегом.
Мир велик: мне путь-дорога на четыре
стороны…
Хоть бы хан опять нагрянул! Хоть Литва бы
поднялась!
Так и быть! Пошел бы с ними переведаться
мечом.
Что, когда бы наш царевич из могилы вдруг
воскрес?..
Внушения «злого чернеца» падают на
подготовленную почву; тем не менее,
Григорий в сцене «Монастырская
ограда» предстает исполнителем чужого замысла.
Из более поздней редакции сцена «Монастырская
ограда» была исключена.
Единственная сцена окончательной редакции
трагедии, по которой хоть как-то можно судить о
мотивах решения Григория, – это сцена
«Келья в Чудовом монастыре». Здесь
замысел Отрепьева вызревает
самостоятельно, хотя и под влиянием страшного
рассказа Пимена о гибели царевича.
Ключевыми становятся слова:
Он был бы твой ровесник
И царствовал; но Бог судил иное.
Имя летописца Пимена является значимым: так
звали реального монаха, который перевел
Отрепьева через литовскую
границу[16],
а позднее обличал его как самозванца.
Исследователи обращали внимание на
второй факт, но почти не рассматривали
первый. Между тем в трагедии роль
Пимена как «проводника»
Отрепьева очевидна:
во-первых, он –
«вождь», водитель инока
Григория в духовном мире и по истории
России; во-вторых, он невольно
приводит Отрепьева к его
дерзновенному замыслу через рассказ о гибели
царевича. Сам того не желая, он предлагает
молодому иноку тончайшее искушение правдой,
справедливостью. Рассказ Пимена
рождает в душе Отрепьева благородное
негодование против цареубийцы, но при этом
и невольно провоцирует его на
самозванство. Конечно, очевидно, что
Отрепьев воспринимает события
убийства царевича, о которых рассказал
Пимен, по-своему, и его отношение к ним
совсем иное, чем та трезвая смиренная
рассудительность старца, его подлинно христианское,
молитвенное восприятие жизни и истории.
Показательно, как свою труд летописания
оценивает Пимен и как о нем
отзывается Отрепьев. Летописец
говорит о себе:
Исполнен долг, завещанный от Бога
Мне, грешному. Недаром многих лет
Свидетелем Господь меня поставил
И книжному искусству вразумил.
Пимен называет себя свидетелем. Это
слово – не только судебный термин, у него есть
и сакральный смысл. В свидетельстве
сокрыто апостольство: перед Вознесением
Христос говорит ученикам: «И вы будете
мне свидетелями в Иерусалиме и даже до
пределов земли» (Деян. 1: 8). Как
известно, в греческом языке слово
свидетель (μάρτυς)
употребляется для обозначения понятия «мученик»,
и понимание мученичества как
свидетельства глубоко укоренено в
церковном предании: так, на паримийном чтении из
пророчества Исаии, читаемом в память
мучеников, мы слышим: «А Мои свидетели,
говорит Господь, вы и раб Мой, которого
Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и
разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня
не будет. Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме
Меня” (Ис. 43: 10–11). А вот как
воспринимает летописание Пимена
Отрепьев:
А между тем отшельник в темной келье
Здесь на тебя донос ужасный пишет.
Донос всегда, а в пушкинское время
в особенности, воспринимался как подлость; это
понятие включено в семантический ряд:
интриги, коварство,
предательство, а для времени
Московской Руси – еще и пытки,
казни. Несколько упрощая, можно сказать, что если
Пимен смотрит на историю, а значит и на
власть, с библейской точки зрения, то
Отрепьев – глазами политического
психолога, и в этом восприятии выражена
его воля к политической борьбе, воля к
власти.
То, как пришел Отрепьев к решению стать
Самозванцем, можно описать как прелесть, или тонкое
мечтание. Ключевым для понимания этого мечтания
становится сон Григория:
А мой покой бесовское мечтанье
Тревожило, и враг меня мутил.
Мне снилося, что лестница крутая
Меня вела на башню; с высоты
Мне виделась Москва, что
муравейник;
Внизу народ на площади кипел
И на меня указывал со смехом,
И стыдно мне и страшно становилось –
И, падая стремглав, я пробуждался.
На первый взгляд, сон Григория –
это точное предсказание его кончины: «Димитрий
решился выскочить в окно, чтобы спуститься по
лесам… Димитрий споткнулся и упал на землю с
высоты 30 футов. Он разбил себе грудь,
вывихнул ногу, зашиб голову и на
время лишился чувств»[17].
Затем его схватили заговорщики и убили.
Но падение во сне предвещает и иное –
грехопадение под влиянием диавольских сил.
Интересна та интерпретация, которую получила смерть
Отрепьева (точнее – его падение) в
народном предании:
Заглянул в окошко осевчато:
Обступила сила кругом вокруг,
Вся сила с копьями,
Гришка-рострижка, Отрепьев сын
Думает умом своим царским:
«Поделаю крылица диавольски,
Улечу нун я диаволом».
Не успел Грешка сделать крыльицов,
Так скололи Гришку Отрепьева[18].
Пушкин мог знать это предание, параллели с которым
явно видны в сне Отрепьева:
толпа народа, окружающая башню, полет и падение.
Есть и еще несколько деталей, которые
указывают на сон Отрепьева как на
«бесовское мечтанье». Прежде
всего, это сравнение Москвы с
муравейником. Отсюда протягивается нить
к словам Раскольникова в романе Ф.М.
Достоевского «Преступление и
наказание»: «Свобода и власть,
главное – власть над человеческим
муравейником». Муравейник –
символ «двуногих тварей
миллионов», служащих «орудием»
сверхчеловеку наполеоновского типа.
Следующая деталь – смех народа, «кипящего»
под башней. Древнерусским сознанием смех
воспринимался как демоническая стихия[19];
и не случайно в стихире вечерни
Великой пятницы ад называется
«всесмехливым».
Исследователи уже обращали внимание на
любовь Самозванца к поэзии[20];
разбирали и первоначальный вариант сцены
«Краков. Дом Вишневецкого»,
где есть такие слова: «Хрущов
(тихо Пушкину): Кто сей?
Пушкин: Пиит. Хрущов:
Какое ж это званье? / Пушкин: Как бы
сказать? По-русски виршеписец / Иль
скоморох. Самозванец: Прекрасные
стихи. / Я верую в пророчества
пиитов». Выстраивается такой
ассоциативный ряд: Самозванец-поэт,
поэт-скоморох, всенародный смех над шутом. И
«пророчества пиитов» странно
смыкаются с пророческим сном.
Наконец, в пророческом сне присутствует еще и
такая важная деталь, как башня,
символизирующая возвышение и
указывающая на подсознательное стремление
Отрепьева к верховной
власти, которое вдруг прорвалось в
его словах:
Зачем и мне не тешиться в боях,
Не пировать за царскою трапезой?
Какое же место отводит себе Григорий за
царской трапезой и на пире жизни?
И здесь обнаруживается, как воспринимает
Отрепьев власть: как и для
Годунова, власть для него –
источник наслаждения, а не крест, не долг. Сам
Отрепьев понимает греховность подобной
установки, но, как и царь Борис, откладывает
спасение на конец жизни:
Успел бы я, как ты, на старость лет
От суеты, от мира отложиться.
Пимен, понимая его состояние, указывает ему на
тленность и конечность земного наслаждения,
оборачивающегося искушением и горечью, и на
бесконечное блаженство, заключенное в
святости:
Не сетуй, брат, что рано грешный свет
Покинул ты, что мало искушений
Послал тебе Всевышний. Верь ты
мне:
Нас издали пленяет слава, роскошь
И женская лукавая любовь.
Я долго жил и многим насладился,
Но с той поры лишь ведаю блаженства,
Как в монастырь Господь меня привел.
Здесь мы видим глубокое философское определение
разницы между наслаждением, которое
нравственно не ориентировано,
обманчиво и скоротечно, и блаженством,
связанным с духовной жизнью и исполнением
морального долга, постоянным и неизменным. В
рассказе Пимена есть и важная для А.С.
Пушкина тема исхода, отречения от мира –
преображения власти в монашеский подвиг.
Повествуя об убийстве
царевича, Пимен рассказывает и о чуде:
Укрывшихся злодеев захватили
И привели пред теплый труп младенца,
И чудо – вдруг мертвец затрепетал.
«Покайтеся!» – народ им
завопил.
В «Повести об убиении
царевича Димитрия» нет упоминания о
временном воскрешении царевича: эту
деталь вставил Пушкин, вероятно
позаимствовав ее из шекспировской
трагедии «Ричард III»[21].
Это чудо – свидетельство того, что
царевич Димитрий – святой, и рассказ
об этом – предостерегающий знак для
Отрепьева: став самозванцем, он
будет виновен не только в
присвоении чужого права на власть, но
и в кощунстве. Однако
Отрепьев, понимая, не принимает логику
Пимена. Духовному исходу он предпочитает
побег из монастыря и авантюру. Вопрос
«Каких был лет царевич убиенный?» носит
уже совершенно практический характер:
Григорий мысленно снимает с себя монашескую рясу
и примеряет ризы Димитрия.
То, как исполняется это решение объявить себя
спасшимся царевичем, в трагедии не показано.
Единственная сцена, связанная с этими
событиями, – сцена «Корчма на литовской
границе». Сцена эта символична; и определенным
образом она параллельна сцене «Ауэрбаховский
погреб в Лейпциге» части 1 трагедии
И.-В. Гете «Фауст». Герой,
продающий свою душу диаволу,
отправляется в демонический мир, и исходной
точкой этого путешествия, пограничьем
становится кабак, корчма – нечистое место с
точки зрения церковных канонов. При этом
и Отрепьев, и Фауст не участвуют в
попойке, а лишь наблюдают. Для Григория этот разгул
слишком низмен в сравнении с грядущим пиром
«за царскою трапезой». И под пьяную разгульную
песню «Как во городе было во Казани»
происходит перерождение Григория из монаха в
Самозванца: тень Грозного как бы поднимается
из гроба, чтобы усыновить отважного бродягу,
зачинающего кровавый пир на Руси. Тут же,
в корчме, Григорий показывает и чудеса
выдержки, хитрости, изворотливости и
дерзости, так что становится понятно, что для такого
человека ничто не будет преградой на пути к его
цели[22].
В сцене «Краков. Дом
Вишневецкого» Самозванец
является во всем блеске своего
таланта обольстителя, пытаясь объединить своим делом
необъединимое – русских и поляков[23],
казаков и бояр, при этом он ласкает всех,
щедро раздает обещания, не задумываясь об их
выполнимости, а следовательно, и не
заботясь о выполнении. На эту черту следует
обратить особое внимание. По
церковному учению, антихрист в начале
своего правления предстанет добрым и
благостным, обещающим всем блага. А с точки
зрения Макиавелли, для государя подобное
поведение вполне допустимо: «Мы знаем
по опыту, что в наше время великие
дела удавались лишь тем, кто не старался сдержать
данное слово и умел, кого нужно, обвести
вокруг пальца… Разумный правитель не
может и не должен оставаться верным
своему обещанию, если это вредит его
интересам и если отпали причины, побудившие его
дать обещание»[24].
В каком-то смысле антихрист церковного
предания подобен идеальному государю Макиавелли:
«Пусть тем, кто видит его и слышит, он
предстанет как само милосердие, верность,
прямодушие, человечность и благочестие… Ибо
люди большей частью судят по виду, так как
увидеть дано всем, а потрогать –
немногим»[25].
Таким царем-демоном и хочет стать Отрепьев.
В беседе с патером Черниковским демонизм и
лживость Самозванца проступают еще ярче.
Во-первых, этот диалог ведется после
тайного перехода Самозванца в
католичество и отречения от православной
веры. Во-вторых, само это обращение
является неискренним и лживым, о чем
свидетельствует хотя бы явно
неисполнимое обещание за два года привести
«всю северную Церковь под
власть наместника Петра».
Откровенной дезинформацией выглядит и
утверждение Отрепьева о духе русского
народа:
В нем набожность не знает исступленья:
Ему священ пример царя его.
Всегда, к тому ж, терпимость равнодушна.
Достаточно вспомнить сцену «Келья в
Чудовом монастыре», чтобы понять лживость
этих утверждений: народ, выдвигающий
таких старцев, как Пимен, не может быть
религиозно индифферентным; и, как мы видим из
характеристики Пименом Годунова, далеко
не всякий пример царя священен для народа.
Патер Черниковский дает Самозванцу
обоюдоострое оружие оправдания средств целью и
благословляет его
«притворствовать пред оглашенным
светом», не догадываясь, что
Лжедимитрий проделывает это с ним самим.
Теперь вспомним, что антихрист в
церковном предании – лжец и обольститель,
пришествие которого будет «со всяким
неправедным обольщением погибающих» (2 Фес. 2:
10).
Позднее сам Самозванец признается Марине:
Виновен я. Гордыней обуянный,
Обманывал я Бога и людей.
Со своими сторонниками Самозванец играет по
всем правилам манипулирования людьми,
задевая наиболее значимые их стороны. Характерен его
разговор с поляком: «Самозванец:
Ты кто такой? Поляк: Собаньский, шляхтич
вольный. / Самозванец: Хвала и
честь тебе, свободы чадо! Вперед ему треть
жалованья выдать». Как комична эта сцена,
где возвышенное «свободы чадо»
преспокойно соседствует с низменной «третью
жалованья» – соположить их может только
явный циник.
А милость Самозванца к стихотворцу объясняется
не только тем, что Самозванец как поэт в
политике, как импровизатор чувствует
свое родство с ним, но и тем, что он, будучи
прагматиком, отчетливо понимает силу поэтического
оружия в психологической войне и манипуляции
общественным мнением:
Стократ священ союз меча и лиры…
Нет, не вотще в их пламенной груди
Кипит восторг: благословится
подвиг,
Его ж они прославили заранее!
При этом Самозванец явно презирает
своих соратников и благодетелей; вот что
в досаде он говорит Марине:
Явился к вам, Димитрием назвался
И поляков безмозглых обманул.
Он убежден в своем избранничестве
судьбой и рассматривает людей как орудия судьбы:
«Все за меня: и люди, и судьба»[26].
Но до определенного момента Отрепьев не
замечает – или предпочитает не замечать, – что
сам становится орудием поддерживающих его сил
и судьбы, функцией и знаком, что он не самостоятелен.
Более того, он делается заложником своего
самозванства.
Встреча с Мариной Мнишек в саду у фонтана
открывает Григорию многое. Он алчет
любви к именно к себе, к себе как человеку, а
не как к царевичу и претенденту на московский
престол. В нем просыпается живой, искренний,
страдающий человек. Но… Любимую женщину
он интересует лишь как носитель высокого сана, как
социальная функция, и под напыщенными словами о
высоком назначении кроется желание поскорее стать
московской царицей, но не связываться с
претендентом, если его дела сомнительны. Самозванец
видит это и в «порыве досады»
открывается Марине. Его ревность
парадоксальна: он ревнует к самому себе, точнее
– к своей личине, к воскрешенному им
призраку. С другой стороны, она понятна: Григорий
отчаянно пытается освободиться как от панциря лжи,
так и от оков иерархичного, статусного мира, где
человека ценят не по его доблестям и
достоинствам, а по имени и званию, –
ради этого он рискует жизнью и карьерой.
Но он терпит жесточайшее поражение: во-первых,
Марине вовсе не нужна его искренность, она
предпочла бы притворство и ложь, сохраняющие
ее гордость и честь[27].
Во-вторых, он терпит фиаско именно как
личность: Марина Мнишек недвусмысленно дает ему
понять, что сам он – лишь игрушка удачных
обстоятельств, баловень судьбы и недостоин
своего успеха:
Уж если ты, бродяга безымянный,
Мог ослепить чудесно два народа,
Так должен уж, по крайней мере, ты
Достоин быть успеха своего.
И сам Самозванец вынужден признать свою
зависимость и ангажированность:
Я им (то есть королю и вельможам. – д.
В.В.) предлог раздора и войны,
Им это только нужно.
Ложное положение, в которое поставил
себя Самозванец, лишает его права на честь и
доверие. Открываясь, он становится
лишь беглым монахом, авантюристом, к тому же
достаточно ветреным, чтобы озаботиться тайной
своего обмана. Его «доблести»
достойны лишь «позорной петли». А клятвы
Лжедимитрия не имеют цены, потому что ему нечем
клясться: он не может клясться Богом, ибо он предал
свою веру, как расстрига, и не обрел
новой, как «набожный приимыш» лицемерных
иезуитов; у него нет чести витязя, ибо он лжец
и обманщик; и, наконец, его «царское
слово» ничего не стоит ни в фактическом,
ни в юридическом смысле, ибо он –
самозванец[28].
Самозванец исключил себя сам не только из
статусного, но из личностного мира, не только из
человеческого, но и из Божественного
миропорядка, из реальности. И он окончательно решает
соединить себя с инфернальным, демоническим, призрачным
миром – именно об этом его монолог, где он
говорит: «Тень Грозного меня
усыновила».
Одно из ключевых слов этого монолога
– слово «игра»:
Прощай навек. Игра войны
кровавой…
Тоску любви, надеюсь, заглушит.
Сравним отношение к войне реалиста Бориса
Годунова, для которого война –
беда: «В прежни годы, / Когда бедой
отечеству грозило, / Отшельники на битву
сами шли».
Отныне Самозванец безвозвратно
ввергается в призрачный мир
«кровавой игры» и абсолютной лжи.
Его не просто усыновляет тень Грозного,
он сам становится тенью царевича Димитрия, а
также – своей собственной, отрекаясь от
своей личности. И потому что он тень, призрак, он
оказывается неуязвимым: если
Годунов терзается муками совести и
испытывает раздвоение, то Лжедимитрий
внутренне целостен и непротиворечив, его
не может мучить внутренняя неправда, ибо он
весь пропитан ею.
Самозванец исчезает из трагедии за четыре сцены до
ее окончания. Многие исследователи уже заметили один
важный момент: Отрепьев появляется
из сна и уходит из действия во сне[29].
К их наблюдениям о нереальности, виртуальности
существования Самозванца необходимо
добавить, что в православной
традиции сон часто символизирует смерть, это
– наиболее благоприятное время для
деятельности демонских сил. «Просвети
очи мои, Христе Боже, да не когда усну в смерть,
да не когда речет враг мой: ”Укрепихся на
него”», – говорится в
одной из вечерних молитв. Часто суетность
мира и жизни в православной
гимнографии сравнивается со сном:
«Воистину суета всяческая, житие же
сень и соние»[30].
Подобное понимание не было чуждо Пушкину:
позднее в поэме «Медный всадник»
он поставит вопрос:
…иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?
И в главе 6 романа «Евгений
Онегин» сон ассоциируется со смертью:
Как в страшном, непонятном сне,
Они друг другу в тишине
Готовят гибель хладнокровно.
Еще ярче эта ассоциация в стихотворении
«Наполеон» (1821):
Европа гибла; cон могильный
Носился над ее главой.
Итак, сон Самозванца и в начале, и в
конце трагедии может быть связан со смертью, суетой,
тщетностью. Однако он имеет еще одно значение:
Лжедимитрия можно ассоциировать с Наполеоном
– «исчезнувшим, как тень зари»
|